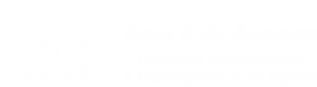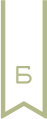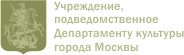ШЕСТОВ Лев

(псевдоним; наст. имя и фамилия Лев (Иегуда Лейб) Исаакович Шварцман) (31.1/12.2.1866—20.11.1938) родился в семье крупного киевского коммерсанта. В 1884 поступил в Московский университет, первоначально на математический факультет, но год спустя перешел на юридический. Под руководством экономистов и правоведов И.И. Янжула и А.И. Чупрова Шестов занимался статистической и правовой стороной "рабочего вопроса". Из Московского университета Ш. был исключен по делу о студенческих беспорядках и закончил высшее образование в Киеве в 1889. Шестов продолжает занятия финансовым правом, помогает отцу, пробует силы в литературе до 1897, когда полностью отдался философствованию.
Для уяснения "личных откровений", возможно сказавшихся на характере позднейшего философствования Шестова, значимо, что в возрасте 12 лет он был похищен группой анархистов. Отец отказался платить требуемый выкуп, и только шесть месяцев спустя мальчик был возвращен домой. Само философское обращение Шестова также связано с неким трагическим, приведшим к тяжелой болезни событием осени 1895. В эти годы Шестов поглощен творчеством Шекспира, которому посвящена его первая крупная работа, опубликованная в декабре 1898 ("Шекспир и его критик Брандес"). Вслед за Шекспиром Шестов открывает для себя Бодлера и Ницше, перечитывает Толстого и Достоевского, обращается к Библии.
После публикации первых книг Шестов входит в круг ведущих писателей и мыслителей русского религиозно-философского возрождения начала XX в. Дружеские отношения и острая полемика связывают его с Д. Мережковским, Н. Бердяевым, С. Булгаковым, В. Розановым, Вяч. Ивановым, А. Ремизовым, М. Гершензоном. Парадоксы "беспочвенности" становятся непременным атрибутом расхожего декадентства разного толка, которому сам Шестов остается, однако, предельно чужд.
В начале января 1920 Шестов с семьей эмигрирует из России и поселяется в Париже. Он читает лекции, публикуется в периодической печати, его сочинения переводятся на европейские языки (а позже на японский и китайский), и вскоре он становится весьма заметной фигурой в философии преимущественно экзистенциалистского толка, занимавшей тогда доминирующее положение в интеллектуальной жизни Западной Европы. В известной книге "Миф о Сизифе", опубликованной в 1942, А. Камю избирает, в частности, философию Шестова, чтобы на ее примере рассмотреть тот тип экзистенциального опыта, который по-своему сказался в произведениях Достоевского, Кьеркегора, Ницше, Хайдеггера.
В 1928 в Амстердаме Шестов познакомился с Э. Гуссерлем, творчеству которого он посвятил статью "Memento mori", написанную еще в России и вошедшую в книгу "Potestas clavium" (Берлин, 1923). Теплая дружба связывала этих философов-антиподов до самой смерти, последовавшей в одном и том же 1938. Последняя статья Шестова посвящена памяти Гуссерля. Близкое знакомство, дружеское сотрудничество или творческая переписка в той или иной степени связывали Шестова не только с русскими собратьями, но и с широким кругом западных писателей и философов: Э. Мейерсоном, Л. Леви-Брюлем, А. Жидом, А. Мальро, Ш. дю Босом, М. Бубером, К. Бартом, М. Хайдеггером и др. В начале 1925 Шестов принял приглашение Ф. Вюрцбаха, президента Общества Ницше, и вошел в его президиум вместе с такими писателями, как Г. фон Гофмансталь, Т. Манн, Г. Вельфлин. Скончался Шестов в Париже.
Трагическое удивление, открытость бытию, не входящему в наши научные или метафизические расчеты — так можно было бы назвать начало философской озадаченности Шестова. "Задача философии, — формулирует он, — научить нас жить в неизвестности" (Апофеоз беспочвенности. СПб., 1905, с. 30).
В предсмертной, посвященной памяти Э. Гуссерля статье Шестов вспоминает: "Моим первым учителем философии был Шекспир. От него я услышал столь загадочное и непостижимое, а вместе с тем столь грозное и тревожное: время вышло из своей колеи... От Шекспира я бросился к Канту... Но Кант не мог дать ответы на мои вопросы. Мои взоры обратились тогда в иную сторону — к Писанию" (Умозрение и Откровение. Париж, 1964, с. 304). Ссылка на Канта мимоходом указывает и другое пожизненное недоумение Шестова: почему традиционная философия от Аристотеля до Гуссерля стремится стать наукой, метафизической доктриной или рациональной теологией и тем самым традиционно искореняет свое собственное начало — начало радикального, онтологически-экзистенциального удивления?
Суть философской позиции Шестова вполне определилась уже в первых значительных работах: "Добро и зло в учении гр. Толстого и Фр. Ницше" (СПб., 1900), "Достоевский и Ницше: Философия трагедии" (СПб., 1903) и "Апофеоз беспочвенности". После их публикации Шестов занимает заметное место в философской культуре "серебряного века". При всех идейных расхождениях Шестов разделяет общее устремление эпохи к радикальному пересмотру традиций путем "припоминания" начал, возвращения к истокам слова, мысли, веры. Вместе с тем весь пафос его "беспочвенной" мысли не только не согласуется с генеральной линией русской религиозной философии, связанной с именем B.C. Соловьева, но и сознательно противостоит ей.
Здесь Шестов расходится даже с Н.А. Бердяевым, мыслителем, казалось бы, ближайшим к нему по экзистенциально-персоналистическому умонастроению. Причем оспаривает Шестов не что иное, как самое заветное — самобытность этой мысли. Философия всеединства — не слишком оригинальный список с классической западной метафизики. "А меж тем, — замечает Шестов, — русская философская мысль, такая глубокая и своеобразная, получила свое выражение именно в художественной литературе. Никто в России так свободно и властно не думал, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой... и даже Чехов..." (Умозрение и Откровение, с. 35; ср. ст.: Вячеслав великолепный // Соч.: В 2 т. М., 1993, т. 1, с. 243—277).
Здесь — в мире русской литературы прежде всего — увидел Шестов возможность "новых начал" философии — философии, развиваемой на каторжных нарах, в монастырских кельях, в трактирах и подпольях, под пристальным — толстовским — взором смерти, "на пире Платона во время чумы". С течением времени Шестов расширяет этот мир и открывает в нем альпийский "затвор" Ницше, "одиночку" Кьеркегора, каморку Паскаля, келью отчаявшегося монаха Лютера, темницу Сократа, пепелище Иова — всех тех, кто волей или неволей пробудился от мирного сна "всемства", от добротного, разумно оправданного, морально благоустроенного мира и оказался без покровительства законов, один на один с реальностью, не предусмотренной метафизическим умозрением.
Здесь рождается новое зрение, открывается "второе измерение мышления", впервые слышится то самое Слово, которое от века звучит в Писании. Это слово Шестов слышит, потому что и саму Библию читает в контексте Толстого, Достоевского и Ницше. Он читает ее не глазами правоверного иудея или ортодоксального христианина, а как бы в предвидении катастрофических откровений XX века, заранее распознавая в воплях Иова, плаче Иеремии, воздыханиях псалмопевца голос кричащих и вопиющих фактов грядущего.
Библейский реализм Шестова вступает в резкое противоречие не только с метафизическим идеализмом традиционного толка или с позитивистским мировоззрением рубежа веков, но и с тем реалистическим символизмом, который развивал в те же годы Вяч. Иванов (см.: "Две стихии в современном символизме", 1908) и который составил основу позднейшей метафизики всеединства ("софиология" о. С. Булгакова, "конкретная метафизика" о. П. Флоренского, "абсолютная мифология" А.Ф. Лосева). Realiora (реальнейшее) у Шестова есть нечто прямо противоположное миру ноуменальных сущностей, символически знаменуемых всепримиряющим и всеобъясняющим мифом: как раз то, что неизбежно остается за пределами умного мира научной метафизики или символического мифа, — бытие как бездонное, тайное, неведомое, неслыханное, неожиданное, всевозможное, всегда иное, обитающее скорее уж в единичном, случайном, временном, не принятом в расчет "с точки зрения вечности".
Только такая, одновременно простейшая и глубочайшая реальность отвечает реальности живого Бога, только здесь Его можно искать и встретить. В насквозь истолкованном мире реальнейшее бытие сжимается в кричащий и не терпящий объяснений (т.е. оправданий) — голый — факт. Откровения реальности внезапно разрывают сплошную ткань согласованных значений и взывают к вниманию особого рода — к вниманию, которое способно превзойти понимание, целиком определенное сложившимся образом мира или целиком поглощенное идеальными метафизическими проектами всеобщего благоустройства, абсолютного мифа или тотального культа. Именно такое внимание, не соблазняющееся жаждой универсального понимания, не желающее становиться знанием, Шестов и называет верой, только верой. Вместе с тем именно в ней он видит "второе измерение мышления", мышления, неизвестного и чуждого умозрительной философии и теологии, открывающего путь "к Творцу всего, что есть в мире, к источнику всех возможностей, к Тому, для которого нет пределов между возможным и невозможным" (Киркегард и экзистенциальная философия. М., 1992, с. 25).
Так конкретно определяется основная тема позднейшего творчества Шестова. С неистощимой изобретательностью и стилистическим блеском он продумывает и на разные лады описывает все смысловые обороты этой темы, прослеживает ее косвенные вариации и стремится отыскать глубинный корень извечного, по его убеждению, противоборства так понятой Веры и так понятого Разума. Доминирует, однако, не образ двумерного мышления, а схема жесткой оппозиции, что сказывается в самих названиях книг и их отдельных частей: Афины и Иерусалим, Откровение и Умозрение, Дерзновение и покорность, Истина и тайна, Знание и клады... Вера предполагает личную свободу и отвагу — истины разума требуют слепого повиновения своей безличной необходимости; Сократ требует от человека каждый раз знать, куда ступить, Авраам оставил по зову Бога дом, родню и отечество и пошел неведомо куда; Бог, говорит Шестов словами Паскаля, есть Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не Бог философов.
Шеститомное собрание сочинений Шестова, выпущенное Петербургским издательством "Шиповник" в 1911 г., знаменует собой отчетливый рубеж в его творчестве. С 1910 г. Шестов с семьей живет преимущественно в Швейцарии, в городке Коппе, на берегу Женевского озера, лишь временами наезжая в Россию. Здесь он начинает углубленные занятия классической европейской философией и богословием. С этим периодом связано открытие Плотина и М. Лютера, новых героев философской драмы Шестова. Помимо Эннеад и сочинений Лютера Шестов внимательно изучает труды средневековых мистиков, а также многотомные истории догматических учений, средневековой церкви, лютеранства. Классическая западноевропейская философия, метафизика, теология становятся отныне и навсегда главным предметом его размышлений (не считая, конечно, Писания). Он развертывает теперь свою тему на почве богатой исторической традиции и стремится определить наиболее глубоко лежащие корни усматриваемого им повсюду противоборства.
Лютерову критику католической церкви он толкует в духе "Легенды о великом инквизиторе" Достоевского (см.: "Sola fide" — "Только верою". Париж, 1966, ч. 2. "Лютер и церковь"), которая, по его убеждению, "подводит итоги двухтысячелетней истории Европы" (Там же, с. 112). Систематическое вероучение церкви, рационализированное богословие целенаправленно подменяет загадочное божественное слово общепонятными словами разума, как бы приручая и подчиняя его человеку. Если, по слову Фомы Аквинского, истина не может противоречить истине: истина откровения — истине разумной, разум, безусловно, подчинит себе откровение, какое бы место во внешней иерархии он ни занимал.
Изначальный грех здесь неверие Непостижимому, предпочтение гарантий благочестивого служения свободной встрече со Свободным. В результате догматическое богословие не столько раскрыло истины откровения с помощью Аристотеля, сколько обожествило самого Аристотеля, превратив в действительности саму теологию в служанку этого Philosophus'a. А далее уже с внутренней необходимостью и логической последовательностью это богословие должно было превратиться в рациональную метафизику спинозистского толка, в спекулятивную и, наконец, в научную философию, образцом которой была для Шестова философия Э. Гуссерля.
Шестов рассматривает эти вопросы в книге "Sola fide", написанной в Швейцарии незадолго перед первой мировой войной, но опубликованной лишь посмертно, в 1964 г. Много позже, в 1934 г., Шестов специально возвращается к этой теме в связи с публикацией труда Э. Жильсона "Дух средневековой философии". Шестов написал статью об этой книге под заглавием "Афины и Иерусалим", ставшим впоследствии названием книги.
Шестов принимает основной тезис, развитый либеральным протестантским теологом А. Гарнаком в его капитальном труде "Курс истории догматических учений" (Harnak A. Lehrbuch der Dogmengeschichte. Freiburg; В., 1886—90, Bd. 1—3): христианская догматика есть "произведение греческого духа на почве Евангелия", продукт эллинизации благой вести. В результате эллинистический Логос обратил прямое слово Бога к человеку в богословие — в умозрительное слово человека о Боге, живую веру — в вероучение. Однако и в самой либерально-протестантской критике, в ее рассудочном психологизме, идущем от Шлейермахера, Шестов видит всего лишь очередную форму рационалистического "приручения" веры. Подлинный размах и нешуточный накал противоборства Шестов находит лишь у самого М. Лютера, духовный темперамент которого роднит его скорее уж с Ницше, чем с "религией чувства".
Именно в предельно бескомпромиссных формулах Лютера усваивает Шестов тему глубинного спора, пронизывающего историю христианства и всей определяемой им европейской истории, — спора между "законом" и "благодатью", "делами" и "верой", "волей" и "разумом", "свободой выбора" и "добровольным рабством", между благочестием добродетели и благодатью веры, между оправданным, — стало быть, обусловленным — Богом разумных теодицей и безусловно свободным, всемогущим Богом живым, ничего общего не имеющим с нашими предположениями о добре и зле.
По Лютеру ведь именно самомнение праведности, опирающейся на разум и добрую волю, не допускает человека к Богу. "Поэтому, — не раз цитирует Шестов слова Лютера, — веди себя так, как будто ты о законе никогда не слышал, но войди во мрак веры... Так ведет нас Евангелие вне и над светом закона и разума во мрак веры, где нет ни разума, ни закона" (Соч.: В 2 т. М., 1991, т. 1, с. 453). Бог может откликнуться лишь на зов человека из бездны, в которой исчезли все оправдания, основания и "почвы". В этом пафосе Шестов сближается с тем движением современной ему протестантской мысли, которое известно под именем "диалектической теологии" или "теологии кризиса" (К. Барт, Р. Бультман, Э. Бруннер и др.).
Однако Шестов отнюдь не связывает свою тему исключительно с протестантизмом. Лютеровский протест в глазах Шестова лишь эпизод всемирно-исторической драмы. На стороне умозрения или откровения, истин разума или сотворенных истин так или иначе в драме этой участвовали все ведущие персонажи религиозно-философской истории. В истории западного христианства Шестов опирается, в частности, на апологию "простой веры" Тертуллиана. Множество раз цитирует Шестов знаменитое "prorsus credibile est quia ineptum est" ("оттого и заслуживает веры, что бессмысленно").
К Тертуллиану восходит и символическое противопоставление Афин и Иерусалима. Обращается Шестов и к Августину, прежде всего в его споре с Пелагием и его последователями. Упоминает Шестов кардинала Петра Дамиани (XI в.), в частности главу "антидиалектиков", который в трактате "О божественном всемогуществе" отрицал всеобщий характер принципа противоречия и опровергал тезис о том, что Бог не может сделать бывшее небывшим (см.: Киркегард..., с. 289—290). Наконец, Шестов открывает своих сторонников в лице ведущих номиналистов — Дунса Скота и В. Оккама.
Поскольку вся эта традиция так или иначе постоянно обращалась к текстам Писания, нетрудно найти и ее библейские истоки. Прежде всего это, разумеется, опора на М. Лютера: учение ап. Павла о спасении "только верою", о благодати и законе. Ап. Павел, "иудей из иудеев", изъясняет здесь открывшийся ему дух новозаветного Евангелия в его отношении к закону и завету отцов. Однако сам Ветхий Завет вовсе не противостоит Новому, как религия Закона — религии Благодати.
В той части Священного писания, что именуется Ветхим Заветом, Бог сказывается вовсе не только как Бог-законодатель, но прежде всего как Бог-творец, всемогущий и сокровенный. Не только Творец мира и человека, но и личный участник человеческой истории, откровенно вторгающийся в нее и сокровенно связующий ткань событий, каждое из которых, сколь бы незначительным и случайным оно ни казалось, происходит во внезапном скрещении несоизмеримых друг с другом порядков бытия. Такие книги Библии, как "Бытие" и "Исход", книга Иова, Псалмы, Екклесиаст, книги пророков — Исайи, Иеремии, Аввакума, — свидетельствуют о том, что и весь Ветхий Завет пронизан противоборством закона, понятого как условия богочеловеческих отношений, и безусловной Веры в ничем не обусловленного личного Бога.
Таково, по Шестову, собственно библейское начало возможной философии, предельно противоположное началу эллинскому — началу автономного разума с его безличной необходимостью и самоочевидными истинами, диктующими свои условия не только человеку, но и самому Богу. И первым шагом на пути эллинизации библейского откровения, т.е. на пути подчинения "метафизики Исхода" метафизике Аристотеля, было учение о Логосе Филона Иудея и Иоанна Богослова.
Между тем как раз в ту эпоху, когда христианские богословы учились неоплатонической философии, в самой эллинской философии произошло своего рода откровение, которое Шестов связывает с экстатическими постижениями Плотина. По Плотину, Единое — лишенное вида и определенности начало и исток всех умопостигаемых форм и логических определений — постигается не знанием и не логосом, а своего рода причастием. Ведь знание и логос — нечто сложное, поэтому они не только не приближают к Единому, но, напротив, преграждают путь к нему, и надо "взлететь над знанием и разумением", чтобы коснуться Единого.
Итак, именно там, где эллинская философия подходит к завершению в высшем синтезе всех усилий своего ума, она — в лице Плотина — с этого ума сходит и от него отрекается. Между тем Плотин — комментатор и логически последовательный адепт классической эллинской философии. Можно заподозрить поэтому, что и философской логике присуще своего рода умное с-ума-сшествие там, где дело идет о началах самого ума. Однако, следуя логике своей борьбы, Шестов оставляет эту возможность непродуманной.
Другим философом, в котором Шестов распознает родственный ему дух, является Б. Паскаль. Опять-таки именно в ту эпоху, когда метафизика естественным образом освободилась от своего случайного союза со сверхъестественным откровением, когда Спиноза, по выражению Шестова, окончательно "убил Бога", Паскаль жил и мыслил так, чтобы быть в состоянии пробудиться от метафизических истин и бодрствовать со Христом. Собственно, такое бодрствование Паскаль и считал истинным мышлением — мышлением, рассеивающим метафизические сновидения, подрывающим основы метафизических сооружений и выбивающим почву из-под ног человека, жаждущего гарантированной уверенности и прочности.
И здесь, разбирая столь близкие ему мысли Паскаля, Шестов снова касается того сокровенного патоса (страсти и страдания) философии, в котором она сама противоборствует метафизическому соблазну. Ведь в паскалевском бодрствовании, в подрыве метафизических оснований, в его стремлении "противоречить человеку во всем до тех пор, пока он не увидит себя непостижимым чудовищем", можно усмотреть своеобразную вариацию картезианского сомнения, правда, доведенного до предела, граничащего с экзистенциальным отчаянием Кьеркегора.
Лишь в конце жизни, следуя совету Э. Гуссерля, обращается Шестов к творчеству С. Кьеркегора, которому он посвятил свою последнюю книгу "Киркегард и экзистенциальная философия", увидевшую свет уже после смерти философа, в июле 1939 г. (в 1936 г. был опубликован ее французский перевод). Многое у датского философа оказалось для Шестова давно знакомым, он сам пришел к подобным парадоксам еще во времена "Апофеоза беспочвенности".
Бог, откликающийся на зов из бездны отчаяния, открывающийся в абсурде ничем не обусловленной веры по ту сторону "этического"; бегство частного человека с его "несчастным сознанием" из гегелевского царства всеобщего духа к "частному мыслителю" Иову — Шестов сразу же распознал эти и другие давно знакомые ему мотивы. Но в одном из важнейших вопросов — в истолковании грехопадения, первородного греха — Шестов решительно разошелся с Кьеркегором. Размышляя над этим вопросом, Шестов и уяснил для себя глубиннейший, как ему казалось, исток той роковой борьбы веры и разума, историю которой он исследовал и описывал всю жизнь.
В книге "О понятии страха" Кьеркегор толкует событие грехопадения как результат бессознательного испуга, испуга не перед чем-либо угрожающим, а по существу перед ничем, перед ничто. Невинность чревата страхом, неведомо для нее самой она уже больна страхом перед ничто — таково замечательное открытие Кьеркегора. Подспудный страх этот и толкает невинность к знанию, он-то и пробуждает в ней дух, ведающий различие добра и зла. Шестов справедливо видит в таком истолковании лишь психологически утонченную диалектику пробуждения духа, давно описанную главным оппонентом Кьеркегора Гегелем. Умный дух Гегеля в конце концов все-таки обманул Кьеркегора. Но при столь диалектичном истолковании события грехопадения, замечает Шестов, роль библейского змея — "внешнего" соблазнителя — становится непонятной. Непонятно также и то, почему пробуждение духа именуется в Библии падением.
Шестов тоже понимает грехопадение как результат испуга перед ничто. Но, по Шестову, страх этот нашептывает человеку сам разум, внушающий ему недоверие к его божественной свободе. Это разум заставляет человека предпочесть его свет, его надежную необходимость и гарантированное различение добра и зла таинственной, ничем не обеспеченной парадоксальной свободе веры. Словом, разум и есть библейский змей.
"Экзистенциальная философия, — так заканчивает Шестов книгу о Кьеркегоре, — устремленная к Богу, для которого все возможно, открывает, что Бог ни к чему не принуждает, что Его истина ни на кого не нападает и сама ничем не защищена, что Бог сам свободен и сотворил человека таким же свободным, как и он. Но concupiscentia invincibilis (непобедимое вожделение. — А.А.) падшего человека, человека, вкусившего от плодов древа познания, больше всего боится божественной свободы и жадно стремится к всеобщим и необходимым истинам" (Киркегард..., с. 233). Таково, пожалуй, последнее слово Шестова.
Соч.: Сочинения. СПб., 1911. Т. 1—6; Избранные сочинения. М., 1993; Начала и концы. СПб., 1908; Великие кануны. СПб., 1910; Что такое русский большевизм. Берлин, 1920; На весах Иова: Странствования по душам. Париж, 1929; Афины и Иерусалим. Париж, 1951; Тургенев: Неоконченная книга о Тургеневе. Анн-Арбор, 1982; Роковое наследие // Минувшее: Исторический альманах. М., 1992. Вып. 9.
Лит.: Грифцов Б. Три мыслителя: В. Розанов, Д. Мережковский, Л. Шестов. М., 1911; Асмус В.Ф. Лев Шестов и Кьеркегор // Философия науки. М., 1972. № 4; Ерофеев В. Остается одно: произвол: Философия одиночества и литературно-эстетическое кредо Льва Шестова // Вопросы литературы. 1975. № 10; Сопровский А. Вера, борьба и соблазн Льва Шестова: Свободный конспект книги "Афины и Иерусалим" // Вестник РХД. 1982. № 136; Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям современников: В 2 т. Париж, 1983; Герцык Е. Портреты философов // Наше наследие. 1989. № 2; Мотрошилова Н.В. Парабола жизненной судьбы Льва Шестова // ВФ. 1989. № 1; Морева Л.М. Лев Шестов. Л., 1991; Bibliographic des Etudes sur Leon Ch. // Etablie par Nathalie Baranoff. P., 1978.
А. Ахутин