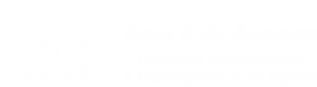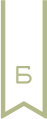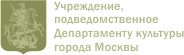Воспоминания Ирины Игоревны Стин
Большой Афанасьевский переулок, дом 3
Этот особняк был построен после пожара Москвы, во время Отечественной войны 1812 года. Вероятно, в году в 1820—25. Тогда же поставлен и камин.
Особняк имел высокий подклет, или нижний этаж, — очень глубокий и толстостенный, из кирпича. Верх же, бельэтаж, сложен из чудесных звонких брёвен. Так что когда в 1975 году дом сносили, то едва не плакали, вывозя на свалку эту красоту. Мне известно, что в начале 20 века дом этот принадлежал доктору Штейну. Он построил на территории двора большое здание больницы. Но началась Первая Мировая война, и он не успел достроить больницу. Часть здания была достроена до шести этажей, а большая часть была, т. е. осталась, четырёхэтажной, так что дом простоял до середины семидесятых годов 20 века. Здание было устроено так: от лестничной клетки, вправо, на каждом этаже были высокие двустворчатые двери. Они распахивались в большой, длинный, широкий коридор. Из коридора открывались двери в высокие светлые комнаты, в каждой из которых были очень широкие (не по тогдашнему времени) окна. В каждой комнате, слева, были во всю стену стенные шкапы. Очень удобные и поместительные, с полками. Наконец, в левой, высокой части дома, с площадки были входы в крошечные квартирки, видимо, для персонала или ночных дежурных.
Итак, после войны 1914 года и так называемой «революции» этот большой дом пустовал. В этот момент известнейший учёный-металлург Грум-Гржимайло построил научный институт «Стальпроект», по адресу: Гоголевский бульвар, дом 8 (в конце-середине 20-х годов). Конструктивистское это сооружение живо и до сих пор. Владимир Ефимович Грум-Гржимайло обратился в правительство с просьбой отдать пустующий дом в Большом Афанасьевском переулке, № 3. Так и получилось.
Дом этот был заселён сотрудниками «Стальпроекта». Многих вскоре начали высылать и расстреливать. Одними из первых забрали талантливых сыновей Грум-Гржимайло, Алексея и Юрия. У Алексея была подаренная Орджоникидзе машина «эмка». Она стояла в каретном сарае во дворе. Её, конечно, конфисковали, Алексея арестовали, и осталась его беременная жена Зоя Николаевна Беляева с двумя маленькими детьми, Аллочкой и Котиком. Они жили в квартире №1, на первом этаже. У них было две смежных комнаты, в самом начале коридора. Братья погибли.
Жизнь нашего дома текла обычным советским образом: аресты, доносы, опасности, страхи. Особенно трепетали ночами, когда хлопок дверцы машины звучал как выстрел: «Опять за кем-то!». И долгие годы мы с мамой просыпались с сердцебиением, годов до 60-х.
Я-то родилась и жила в особняке. Но оба дома носили один номер, №3. И двор был общий. И дворник был общий. Раньше, до 1917 года, во всей России, в каждом доме (большом или маленьком) всегда был дворник. Это была заметная и нужная фигура — он, конечно, очень тщательно убирал и двор, и прилегающий участок улицы или переулка. Он жил в доме и был всегда под рукой. Следил за порядком пристально и отвечал за всё, что происходило во дворе. По праздникам он облачался в белый фартук и вешал большую бляху. Летом он поливал двор и переулок чистой водой два, а в жару и три раза в день. Поэтому между булыжниками мостовой постоянно и весело зеленела травка, а в домах совершенно не было пыли. Зимой он скрёб снег большой самодельной лопатой. И утро начиналось с характерного звука сгребания снега. Сквозь сон ощущаешь глубину снега, его мягкую тяжесть, представляешь, как освобождается проход через двор. Ещё темно, рано, и хочется спать дальше.
Конечно, дворник знал всех и всё, был он и первым осведомителем, был и непременным понятым при обысках и арестах. Когда в последний раз арестовали моего папу, обыск длился с вечера до утра. И дворник наш — Тихон Васильевич Жихарев — непрестанно засыпал, сползая с табуретки. И, когда ушли ночные гости, он мрачно сказал: «Ищут! Сами не знают чего». Все книги, ноты, рукописи, одежда — всё горой лежало на полу, занимая всю комнату. Чтобы пройти к двери или к окну, надо было наступать на письма, фотографии, портреты и рамы, сваленные посреди комнаты — от стены к стене...
Всякое событие в доме он отмечал парадной формой — белый фартук и бляха. Он торжественно становился в воротах и оповещал каждого входящего: «Так что... Агриппину Лексевну свезли!» — «Куда?» — «Так что — у крематорий!» — «Боже мой!»
Иногда, когда не хватало на бутылку, он приходил и говорил «Так что, Ирочка, купил метло. Новое». — «А, Тихон Васильевич, понимаю — несу». И давала немного денег. Как я уже говорила, в большом доме жили стальпроектовцы. А в особняке доживали потомки хозяев и, конечно, ещё многие, принесённые ветром переустройства. Если раньше в доме жила семья владельцев, то теперь в каждой комнате обычно ютилась семья, не имеющая отношения к дому. Приехали Бог знает откуда — и зачем? Прописались — и, пожалуйста, равноправные жильцы! Не ваши предки строили, не ваша родня обживала... Кто вы такие? Зачем припёрлись и почему захватили чужое? Страшно вспомнить, как в каждой комнате умещались семьи, по коридору носились дети, в кухне толпились у плиты (тогда ещё — дровяной) стирающие, варящие, жарящие женщины. Двор и кухня были завешаны бельём, характерная вонь кипящего в баке белья заполняла окрестности. По стенам кухни и коридоров висели тазы и корыта, все пространства крест-накрест перекраивали бельевые верёвки. В сортир бывали очереди, потому что нельзя же одним кабинетиком обслужить, иногда до сорока человек! Так, безобразно и будто бы естественно, пробиралась эта новая жизнь, хозяйкой заступая в разорённые чужие гнёзда! Всё-всё было дико, глупо и противоестественно. Разрушался заведённый порядок, взамен которого приходил новый быт — «коммунальный»: теснота сразу стала узаконенной нормой, пристально следили за тем, чтобы не было «излишков», и почему-то 3-5 метров на человека — это правильно, а вот шесть или больше — нельзя! Существовало понятие «самоуплотнение». Это когда вас обязывали, «предлагали» самоуплотниться, т.е. отдать часть своей площади соседу или вновь прибывшему идиоту.
Вот характеристики жизненных представлений: во дворе дети поссорились, подрались, разревелись. Из окон высовываются матери, бабушки.
Наши, т.е. коренные, кричат:
— Ты что плачешь? Что с тобой?
Новозаселенцы кричат одно:
— Кто тебя?!
Враждующий и враждебный люд был долго заметен даже внешне. В переулках их было легко узнать по «ненашим» лицам. Культура ещё никак не коснулась их своим крылом. Но это отдельный и очень важный рассказ о вытеснении и угасании культурного круга обитателей коренных и подлинных наших чудесных Арбатско-Пречистенских переулков. Наконец появились первые детекторные приёмники с наушниками, потом «тарелки» из чёрной бумаги — первое радио. И тут началась война. Мгновенно смели продукты, начались очереди за хлебом, началась эвакуация целых предприятий и просто жильцов (мама меня спрятала, чтобы не увезли без неё). Завыли сирены, зазвенели зенитки, забухали бомбы. Тревоги не успевали отменяться, как объявлялись снова. Земля и здания тряслись, взрывы окружали со всех сторон, во двор шмякались осколки.
Мы бегали через двор из особняка в большой дом, где под подвалом был ещё подвал, без окон, весь уставленный стеллажами — по-видимому, для историй болезней. И неожиданно эти стеллажи послужили нарами, на которых мы проводили время во время бомбёжек. В особняке жила Мария Александровна Харазова, урождённая Туманова. Она была очень образованная дама, армянка, миллионерша, бежавшая из Тифлиса после знаменитой турецкой резни 1915 года. Говорили, что с ней приехала её горничная, которая была так напугана событиями (а её тогда переодели мальчиком), что навсегда осталась в мужской одежде и называла себя в мужском роде. Я её уже не застала, но Марию Александровну помню прекрасно.
И вот, когда мы сидели в бомбоубежище на этих самых нарах, в полной темноте, притихшие между ударами и, дрожа, слушали упорный зуд самолёта, вдруг раздавался светский голос Марии Александровны:
— Скажите, душка, как Вам кажется — это разрэдчик или бомбёр?
Разрэдчиком она, вероятно, называла самолёт, который уже разрядился, а неподражаемый, с французским прононсом «бомбёр» — очевидно, тот, который летит нас бомбить. Гулко ухая, падали бомбы, лупили зенитки, всё дрожало, и все мы, подавленно-подчинённые обстоятельствам, ждали облегчения. Когда, наконец, усталые, с термосами, одеялами и подушками, детками и стариками выбирались на свет Божий, чтобы идти по домам, т.е. по квартирам (комнатам).
«Много, друг Горацио», слишком много пало на детские плечи и душу, и память.
Начался сильный голод, который неотступно сверлил и требовал непрестанной памяти о нём и страдания. Ввели карточки. Домоуправление раздало ключи от комнат эвакуированных и из нашего домика всех перевели в большой дом, чтобы мы перестали бегать через двор во время тревоги под сыпящимися на нас осколками. Перебрались — и удивились. Нам дали комнату евреев Млинарис. Софья Захаровна и её муж Дуся уехали так быстро, что было полное впечатление обитаемой комнаты: на туалетном столике стояли духи, пудра, помада; в шкапу висела одежда, в стенном, на полках, стояли сервизы и хрусталь. Всё было нетронуто, даже сафьяновые туфельки были сброшены у постели, словно хозяйка сидит на тахте, поджавши ножки. Помню, как бабушка открыла стенной шкап и сказала: «О, как удобно! Сюда можно сложить все их вещи!». Так и сделали. Закрыли и даже заперли. Начали свою жизнь. Это было после знаменитого шестнадцатого ноября 1941 года, когда, ещё из своих подвальных окон, было видно бегущих людей, ревущих и не успевающих в ногу детей, густой мокрый снег, и слышен был гул танков. Говорили, что немецких. Они были уже под Сходней. Было отчаяние. По радио всё повторяли, что скоро выступит Молотов с важным сообщением. Думали — о сдаче Москвы. А он почему-то заговорил о плохой работе ресторанов. Повсюду затемнение, здания опутаны маскировочными сетками, дирижабли висели серыми рыбами под крышами — снова всё страшно и противоестественно. Очереди. Даже за хлебом. Холод в комнатах и нечем топить, свет отключили и сидим при коптилках (одну сберегла. Могу показать). Начали топить книгами. Окна (все!) заклеены полосками тканей крест-накрест. Это чтобы не ранили стёкла, когда разлетятся.
В мои обязанности входило ходить (стоять!) за хлебом и покупать дрова. Попозже, но далеко не сразу, ввели, наконец, талоны на дрова и, как ни мало, а всё-таки можно было иметь определённое количество дров. Было очень обидно наблюдать, как нахально накладывал мокрую осину мне, девочке, и интеллигентным старушкам. Нагло оделял самой сырой и негодной древесиной. Мы стояли каменные и скорбные, предвидя дальнейшие муки затухающей и шипящей топки, горький дым и негорячую печь. А слюнявый Володька (заведующий дровяным складом) бойко таскал и находил берёзу, и клал её не в нашу мерку. Не стыдился обидеть самых несчастных: меня, в бархатном капоре и кирзовых сапогах сорок второго размера. Голенище было ушито, обужено, а внутрь вставлены кое-какие туфли. И то приходилось тащить ноги, чтобы как-то проскрести по асфальту. И безмолвные, привыкшие к издёвкам, старушки в шляпках и остатках изящных пальто. Старушкам могло быть и сорок, но мне-то было 10-13 лет, поэтому мне они все казались старыми и на одно лицо. Я была права — это было лицо войны. Как было мне жаль их, как хотелось защитить...
Потом мне же предстояло пилить эти метровые поленья, одной, двурукой пилой. Тяжеленные, их надо втащить на козлы, а потом расколоть неподъёмным колуном.
И в эти дни, как и прежде, перед войной, бабушка настойчиво предлагала мне заниматься языками — на выбор: французским, немецким или английским. Она их преподавала. По-видимому, слишком велик был гнёт повседневности, чтобы добавить туда ещё и новые усилия. И я наотрез отказалась заниматься. Некому было высечь! Да и не в стиле хорошего воспитания были такие меры. Как жаль! Тут нужны бы казачьи обычаи — там всё без лишних слов и реверансов решается. Но полегли дорогие предки, и нагайки их забыты где-то там, на родной Запорожской Сечи. Так я и не знаю ни одного иностранного языка!
Однажды, летом, в открытое окно подозвала меня Мария Александровна, дала свою карточку и попросила купить ей хлеб. Я помчалась в булочную на углу Староконюшенного переулка, где в то время был продавец Вася. Он отличался тем, что давал белого хлеба больше, чем чёрного, а по норме было наоборот — очень немножко белого, а остальное — всё черный. Кстати, нормы на день были такие: иждивенцам 250 гр., детям — 350, служащим — 450, рабочим — 600 гр. Казалось бы — куда столько? Не съешь за день. Конечно, это сегодня, когда едим целый день разную еду, а хлеб лишь приятное дополнение. Тогда, изо дня в день, это было единственной едой.
Конечно, это не блокада Ленинграда, но, Боже мой, как хотелось есть!
Итак, получив у Васи норму для Марии Александровны, я примчалась под её окно, встала на цыпочки и протянула эти кусочки.
— Бэлый хлэб! Бэлый хлэб!, — воскликнула Мария Александровна, — где ты нашла бэлый хлэб?!
Мне стыдно до сих пор. Я тогда же поняла, что её недостойные потомки, среди которых она жила, никогда не давали ей её законные кусочки белого хлеба! Невозможно передать мой стыд тогда и боль за неё. Во-он сколько лет прошло, а мне всё больно. Ведь белый тогда воспринимался как лакомство, почти пирожное! А Вася был не благодетель и вовсе не альтруист: понимая значение белого хлеба, особенно в нашем аристократическом районе, давая его больше, он за это сильно недовешивал общий вес. И все с тревогой наблюдали бегающие чаши весов, дожидаясь ловкого, почти циркового движения руки, которая успевала схватить кусок в момент, когда весы опустились в своём беге вниз. Все молчали. И брали с трепетом, и несли домой, как драгоценность.
БЭЛЬ-ЭТАЖ.
У Марии Александровны здесь было двое детей: Томас Давыдович и Анна Давыдовна. Том был женат на колоратурном сопрано, Лизе. Она, выражаясь старинным языком, была так корпулентна, что если её сравнить со шкапом, она значительно превосходила фирменный «Брокгауза и Евфрона». У них был ещё приёмный мальчик, и все они жили в шестиметровой комнате. Анна Давыдовна жила в гостиной, разделённой двумя розовыми колоннами как бы на две комнаты. В главной части было трёхстворчатое окно и камин.
Замечательную частушку сочинила Гали Владимировна Гурко:
Живут Гурки,
Словно урки,
Вход к ним
Словно в притон.
От величья их осталась
Пара мраморных колонн!
Да, так в этой разделённой гостиной жили: Мария Александровна, её дочь Анна Давыдовна (её падчерица Гали Владимировна и родная дочь Злата Владимировна, потом, её муж Виктор Чижов, и, наконец, их дочь Ксения — это внуки Марии Александровны).
Не упоминаю я Владимира Александровича Гурко-Кряжина, востоковеда. Это он прибежал однажды к моим родителям: «Идёмте скорее! Сейчас будут взрывать Храм Христа Спасителя!» — «Не пойду», — сказала мама. — «Как? Это же историческое событие!» — «Не пойду. С меня достаточно исторических событий».
Это он был мужем Анны Давыдовны и отцом Гали (от жены Штейн) и Златы, дочери Анны Давыдовны. Он продал моим молодым родителям своё помещение библиотеки, полуподвальную комнату, где мы и прожили более сорока лет. Он умер в начале тридцатых годов, оставив воспоминания о себе как об очень культурном и живом человеке. Трудно понять, как выросли его дочери и внучки настолько, я бы сказала антидворянскими особями. Они были истинным лицом советского времени. Это они съедали и прятали (!) белый хлеб от своей чудной бабушки (ведь она его даже не видела!).
Они не гнушались доносов, и я точно знаю, на кого они их писали. Они были безумно завистливы и злоязычны. Не хочется вспоминать их, чтобы не притягивать злые силы. Бог им судья. Описываю же я жильцов особняка только для того, чтобы документально подтвердить безумие и безобразие быта советских времён.
В следующей комнате жила еврейская семья Пинес: мама, Феня Абрамовна, сын Гавриил Эммануилович, его жена Мэри Моисеевна и их сын Митя. (18 кв. м). Во время паспортизации мои близкие пришли получать паспорта в одно время с соседями. Каждого вызывают в комнату. Первым вызывают: «Пенис!» — Молчание. — «Пенис!» — Робкое шевеление, смущённое: «Пинес?» — «Ну! Я же вас вызываю!»... В следующей — Юлия Александровна Гесс, пианистка, переписчица нот. (10 кв. м) И ещё родственники Ушинского, Боровские Александр Александрович, его жена Надежда Николаевна и их дочь Наташа. Комната была, как библиотека, сплошь разгорожена стеллажами с книгами. В конце, наверное, сороковых годов, на время умирания матери, Наташа наняла домработницу. И поздно обнаружила, что та растапливала печь прижизненными изданиями Пушкина.
Внизу было общая кухня, за ней — наша комната (19 кв. м). В соседней квартире — дворник Тихон Васильевич с женой (7 кв. м), рабочий Володя Рыкунов с женой и двумя детьми (6 кв. м) и дочь умершего дворника Николая Васильевича Мурашова, Настя, с двумя дочерьми, Лелей и Зоей (16кв. м). У них был отдельный вход и своя общая кухня. Так что у нас, при своём отдельном входе, была почти отдельная квартира. Пишу это просто так, для исторической достоверности и абсолютной точности бытия одного из многих особняков арбатских переулков.
В крыле, с совершенно отдельным входом, комнаты были заселены горничной Гурок Дашей, которая вынянчила два поколения и была ими брошена в дом престарелых, когда не смогла уже быть полезной. С Дашей жила сестра Соня, а потом «плименница», вышедшая замуж и родившая дочь. Это Даша ухитрилась прописать «плименницу» в Москве и очень этим гордилась. Однако и эти родственники предали Дашу, оставив её в доме престарелых. И, наконец, дядя Миша Курбатов. Это был хитрый человек, тайно известный тем, что он один знал секрет плесени, проступающий на памятнике Ленину, сидящему в музее Ленина на Красной площади. Периодически он приходил с одному ему известным составом, смывал плесень и уходил. Поговаривали, что он нарочно не раскрывает рецепт, чтобы подольше в нём были заинтересованы и не посадили бы. Мы сами с мужем были в музее, где в запасниках сидел замшелый Ленин, а сотрудники скорбели об усопшем дяде Мише (это уже в 1970-е г.). А дело в том, что сидящий Ленин был вылеплен из чего-то вроде воска и напоминал живого человека.
Вот тебе и маленький дом, скромный особняк!
В 1943 году из Вереи домой пришёл умирать бывший дворник Николай Васильевич Мурашов. До войны папенька мой дорогой, который был изобретателем и очень остроумен, устроил один сюжет, которым потом весьма гордился. Проснувшись очень рано, в тишине пятичасового рассвета, отец увидел задумчивую спину Николая Васильевича. Идея пришла мгновенно: беззвучно налита хорошая стопка водки, сооружён отличный бутерброд и ... тишайше выдвигается из окна — разом окружая стаканчиком и бутербродом унылую фигуру дворника. Видение потрясло старого пьяницу — всё видел, но чтоб с неба поднесли! Такого не было.
— Игорь Афанасьевич! Отец родной! — со слезами воскликнул он.
«Отцу родному» было лет 30. Но радовались оба как дети — отец, что так блестяще осуществил затею, Мурашов проникся благодарностью за понимание момента — было страшно рано и опохмелиться было совершенно негде. Но вот пришла война, Мурашовы эвакуировались в Сибирь, а Николай Васильевич уехал тогда в родную деревню.
Настало время умирать. Он пошёл пешком (не было каких-то пропусков, разрешений) в Москву. Я увидела его первая и сразу поняла, почему он вернулся. Это была тень человека — двигался он боком, перебирая руками неровности штукатурки крыла дома. Пришёл-то он пришёл, да сразу свалился, и вскоре затрубил. Он трубил ровно и тоскливо, и непрерывно. Слышал весь дом. Отозвалась одна моя бабушка. Эта дама, в седых буклях а ля маркиза Помпадур, спустилась в темноту его зловонного жилища и... убирала за ним, кормила, чем могла, и похоронила, когда пришло время.
Чуть попозже, когда Москву уже перестали бомбить и война откатилась на безопасное расстояние, стали возвращаться эвакуированные. Вернулись и наши Млинарисы. В то время обычно голодающие люди, сидя под бомбами и без жратвы, ни минуты не раздумывали о судьбе чужих вещей, если они им доставались. И, как правило, возвратившиеся заставали голые стены, иногда и со снятыми полами, которые стопили. Млинарисы вернулись, когда мы ещё доживали у них: просто из-за скученности бабушка осталась пожить там одна, а мы вернулись домой, в подвал. О впечатлении своего возвращения мне рассказывала сама Софья Захаровна: «Я вошла, и вижу — на окне стоит швейная машинка. Я подбежала, схватилась за ручку футляра:
«Машинка моя!» Подняла — а там пусто! Я другого не ждала — знала, что все приезжают в пустоту.
— Нет, — говорит твоя бабушка, — это не Ваша машинка. Ваша вот здесь. И отпирает стенной шкаф!
— Там, ты не поверишь, — всё! Абсолютно всё, что мы оставили!
— Я знаю, — говорю я, — всё сохранили. Хотя очень сильно голодали, а Ваше сберегли.
— Ну, не всё...
— Как?! Я же даже сама не раз думала, что за одну только швейную машинку мешок муки дали бы. Но не тронули ничего.
— Нет, у меня была такая ма-аленькая эмалированная мисочка. Так её нету.
Наверное, наступило время поговорить о Валентине Ивановне Масловской. Тут следует целую книгу написать, да хоть немного успеть, чтобы душа оттаяла среди всего этого невозможного. Обернёмся к ней и подивимся, припадём, как в церкви. Когда припадёшь к святыне, затихнешь и... над тобой новые небеса, и ласка, и покой. Она жила рядом, в доме №1, а дворы соединились, после того как рухнула кирпичная стена, их разделявшая. Теперь жильцы того дома ходили через наш двор и ворота. Проходила мимо наших окон и Валентина Ивановна. Позднее, в 80-х годах, она сказала мне:
— Какая хорошая была девочка — весёлая! Пела.
А в самые голодные времена, в 46—48 годах, когда зарплата у мамы была 360 рублей, а буханка чёрного хлеба стоила 100 рублей, в эти именно годы случилось вот что: в нашу форточку постучали, мама открыла — протянулась бумажка, чтобы мама перепечатала. Это бывало. Иногда соседям было нужно какое-нибудь заявление или что-то малое (страничку-другую) напечатать. Мама взяла. Это принесла Валентина Ивановна. Вскоре она пришла забрать готовое и даёт маме (всё в форточку) деньги — купюру 50 рублей.
Мама говорит:
— Извините, у меня нет сдачи.
— Не надо! Не надо! — раздаётся в форточке.
— Что Вы, эта работа стоит три рубля.
— Неважно. Возьмите-возьмите. — И... исчезла.
Мама, бедная, замерла с этой бумажкой (пятьдесят рублей!). И, конечно, мы долго удивлялись, и смущались, и радовались этому событию.
Не буду углубляться в тему голода, скажу только, что в этот момент отец был уже в лагере, в Воркуте, и мы посылали ему продуктовые посылки. Можно сказать, что мы с мамой были тогда семьёй пеликанов, потому что, ну никаких сил, денег и помощи не было. И время от времени наступал момент, когда мама говорила: «Мы не доживём...» Имелась в виду зарплата, до которой оставалась, например, неделя. Молчаливое отчаяние накрывало нас, и наши личики совсем сжимались, и как-то меньше говорилось, и уж не очень и пелось. И вскоре мы заметили, что именно в этот момент или в тот же день, не позднее одного дня, раздаётся стук в форточку, протягивается бумажка для печати и... оставляются пятьдесят рублей! И это повторялось не раз и не два! Думаю, что до десяти, в течение нескольких лет. Всегда, в самый трудный момент! Мама очень терялась и смущалась, и мы горячо обсуждали эти визиты, удивляясь и радуясь без меры. Наконец, мы додумались: «Это же церковь помогает! Тайно, тихо, совершенно незаметно бедным, тем, кому особенно трудно». И приняв это решение, мы несколько успокоились и к нашей радости уже не примешивалась тревога.
Наступил 1956 год. Впервые, после десятилетней разлуки, приехал с Севера папа. Жизнь полегчала. Но много было видно вокруг горя и бедности. Помня о «помощи церкви», я как-то разлетелась к Валентине Ивановне: «Валентина Ивановна! Вот Вы нам тогда помогали. Я хотела Вас просить — если церковь помогает так людям, которым особенно трудно, дайте мне денег, чтобы я могла таким людям передать». «Что Вы? Кому церковь помогает?» — «Но Вы же нам помогали. Из каких же денег?» — «А — из своих»...
Если в те, сороковые годы, зарплата мамы составляла 360 рублей, то у Валентины Ивановны — 250.